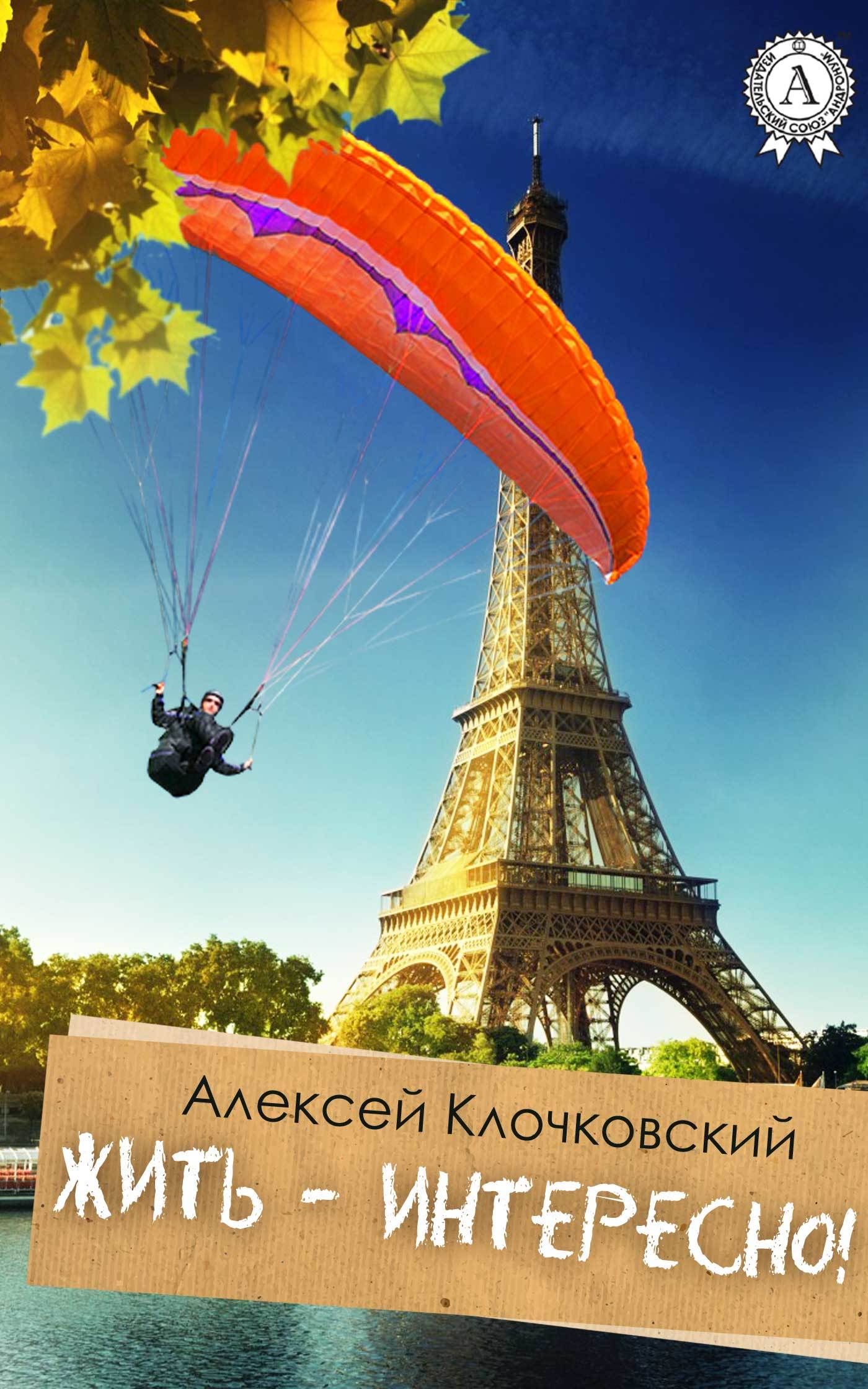
Жить – интересно!
Алексей Клочковский
Известный читающей интернет-аудитории автор предстаёт в новых ипостасях – как талантливый журналист, художник и музыкант. Полный юмора, ...
С присущей ему глубокой взволнованностью Роззак стремится показать, что многообещающая компьютерная техника, попав в руки "определенных элементов" общества – и здесь он снова говорит об экспертах военно-промышленного комплекса – может быть использована во вред обществу. Однако книга "Культ информации" американского философа вовсе не представляет собой лишь некий политический памфлет или разновидность "социологического бестселлера": здесь Роззак предпринимает попытку проанализировать язык компьютеров, их "фольклор", те образы власти, те иллюзии благосостояния, которые распространились в общественном сознании на волне "компьютерной революции".
В частности, он критически осмысливает те концепции, которые в той или иной степени были вызваны к жизни прогрессом компьютерной техники – прежде всего концепцию "информационного общества" и, в более широком смысле, информации в целом.
Информация, по образному выражению Роззака, приобрела сегодня качество неощутимо тонкого, "невидимого, но вызывающего всеобщий восторг шелка", из которого, как считалось, было сшито "эфирное платье голого короля". Само понятие
"информация" приобрело глобальное значение, информация стала желанной для всех. Беспрестанные разговоры об "информационной экономике", "информационном обществе" в свою очередь трансформируют общественное сознание, способствуют рождению культа информации. Как и все другие культы, этот культ также требует бездумной лояльности и молчаливого согласия с ним.
Многие, отмечает американский философ, даже не знают толком, что такое информация и почему им надо все больше и больше информации, но тем не менее все готовы поверить в то, что "мы живем в Век информации", и эта вера превращает компьютер в то, чем был крест в Век веры – в символ "спасения". Не случайно слово "информация" по своей популярности за последние 40 лет и по своему статусу в общественном лексиконе стало равно слову "бог".
Роззак пытается проследить, как, каким образом формировался тот "культ информации", который, несомненно, стал сегодня одной из "составляющих" западного общественного сознания. Он рассматривает генезис этого сравнительно нового идейного феномена, анализируя процесс превращения информации в одну из основных общественных ценностей.
До Второй мировой войны информация как интеллектуальная категория имела сравнительно скромный статус. Люди воспринимали информацию как некую совокупность данных, отдельных фактов – имена, даты, место событий, кто, что, где, когда, сколько... Но по мере развития промышленности и усложнения бюрократической системы управления роль информации в промышленно развитых обществах становилась все более важной. В конце концов она превратилась в остро необходимый всем товар, производство которого стало обходиться во многие миллиарды долларов.
Сначала информация обрабатывалась вручную, затем появились перфокарты для ее хранения, позже стали изобретаться все более совершенные устройства для ее обработки, первые счетные машины. Совершенствование этих информационных машин ускорялось потребностями военного времени в период Второй мировой войны. После войны ими стало пользоваться Бюро по переписи населения. Появились электронные машины для хранения документов, они уже могли выполнять быстрые счетные операции —это и были первые образцы компьютеров: машин, которые помнят, что считают, считают то, что помнят, и выдают любую заложенную в них информацию при нажатии кнопки. Слово
"компьютер" вошло в лексикон в 50-е годы, когда наиболее совершенная модель была размером с комнату. Для хранения информации вместо перфокарт здесь применялась магнитная лента. Подобного рода компьютер – УНИВАК – тогда точно вычислил победу Эйзенхауэра на выборах. В то время, пишет Роззак, шахты, заводы, фермы были уже механизированы, но в учреждениях клерки по-прежнему скрипели ручками, от руки заполняли документы, складывая их в папки. И когда и здесь стали внедрять электронные системы, компьютеры, то казалось, что теперь человек сравнялся с богом. Новые машины воспринимались как невиданный скачок в истории индустриализации.
Примерно в это время Норберт Винер вводит в научный оборот слово "кибернация" для обозначения нового автоматического процесса подсчета, и понятие "сверхбыстросчитающая машина" – для обозначения того, что служило прообразом современного компьютера. Главным в "кибернации" Винер считал "обратную связь", способность машины использовать результаты собственной деятельности. Винер стремился совершенствовать "обратную связь" и средства быстрой манипуляции данными, полагая, что в процессе развития кибернетики достигается и более глубокое понимание сущности самой жизни, мышления, которые по существу представляют собой в определенном смысле процесс обработки информации. "Физическое функционирование живого существа и операции некоторых новых коммуникационных машин, – писал он, – весьма схожи в их общем стремлении контролировать энтропию с помощью обратной связи"
Через пять лет после выхода в свет книги Н.Винера
"Кибернетика" появилась и новая научная дисциплина, занимающаяся проблемами "искусственного интеллекта" – по определению Роззака, "интеллектуальная смесь из философии, лингвистики, математики, электронной техники". Основоположники этой науки Алан Ньюуэлл и Герберт Саймон в 1958 г. заявили: "В мире теперь существуют машины, которые думают, учат и творят сами. Более того, их способность делать это будет быстро возрастать до тех пор, пока – в обозримом будущем – круг проблем, которые они смогут решать, не совпадет полностью с той совокупностью проблем, которые сегодня решает человеческий разум"101.
Н.Винер мог соглашаться и не соглашаться с подобными предсказаниями, однако бесспорно то, что он видел в развитии информационной техники потенциальную угрозу социальной стабильности, предупреждал, что технический прогресс требует более высокого нравственного развития человека. Если эта техника попадет в руки ограниченных, думающих только о прибыли предпринимателей, то может возникнуть такая безработица, в сравнении с которой Великая депрессия в США 30-х годов может показаться просто плохой шуткой.
Через два года после этого предупреждения появилась первая кибернетическая антиутопия Курта Воннегута "Пианист". Автор работал в то время в компании Дженерал Моторз, которая особенно активно осуществляла автоматизацию производства. Да, машины облегчают жизнь, но можно ли машине доверять делать все то, что является смыслом жизни людей? – вопрошал Воннегут.
В тот же год, когда была опубликована книга Н.Винера
"Кибернетика", вышла и статья Клода Шеннона "Математическая теория коммуникации": ее появление означало рождение теории информации, одного из главнейших интеллектуальных достижений XX в. Так возникло и современное понятие информации, которое больше не означает просто факт – оно подразумевает количественное измерение коммуникативных обменов в механическом канале, где сообщение либо кодируется, либо расшифровывается в форме электронных импульсов.
Статья Клода Шеннона представляла собой сугубо специальную работу, но она имела чрезвычайно большое значение. Теория информации нашла широкое применение в современной
технически высокоразвитой экономике, она давала инженерамэлектронщикам мощное средство, способствовавшее возникновению множества нововведений. На смену громоздкому компьютеру с вакуумной трубкой пришли транзисторы и интегральная цепь – миниатюрные полупроводники, позволившие превратить компьютеры в контактные приборы и намного ускорить их работу. Затем компьютер проложил путь к начинающей развиваться всемирной телекоммуникационной сети. Теперь люди благодаря компьютерам получили возможность связываться друг с другом через огромные расстояния, а с появлением космических спутников – возможность мгновенно связываться с любой точкой земного шара. Процесс миниатюризации компьютеров и развитие их связи с телекоммуникацией продолжается: любой личный компьютер сможет присоединиться к информационной сети всего мира – Интернет; таким образом, по убеждению оптимистических приверженцев теории
"информационного общества" эти информационные сети приобретают черты "глобального мозга".
Как подчеркивает Роззак, складывается такое парадоксальное положение, при котором человек практически исключается из информационной сети. Источником информации может быть, скажем, баллистическая ракета, а приемником, например, тот же компьютер.
Благодаря теории информации техника человеческого общения к концу XX в. обрела небывалую скорость, хотя то, что люди хотят сказать друг другу с помощью этой техники, то есть содержание информации, почти не изменилось. Но при наличии такой изощренной техники можно легко прийти к такому заключению: раз мы способны передавать все больше и больше битов информации, и все быстрее и быстрее, и для все большего количества людей, то это должно означать, что мы достигли большого культурного прогресса, а суть этого прогресса – высокоразвитая информационная техника.
Возникновению такого рода иллюзий, кстати, в определенной мере способствовало и развитие естественных наук. В 1952 г. микробиологи Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик расшифровали генетический код, спрятанный глубоко в молекулярной структуре ДНК. Это было очень важно и для теоретиков, которые тоже занимались как шифровкой, так и дешифровкой информации. Они
увидели в молекуле ДНК миниатюрный кибернетический аппарат для хранения химически закодированных данных. Так кибернетика и биология объединились. Компьютеры все больше стали походить на людей, а люди – на биокомпьютеры... Итак, в 50-е годы информацию начали уподоблять "тайне жизни", в 70-е она достигла еще более высокого статуса: по выражению социолога Джона Несбитта, она стала предметом широкого потребления, "наиболее ценным товаром бизнеса".
Массовая торговля информацией – это одна из последних глав великой экономической истории нашего времени. В частности, развитие информатики в США способствовало географическому передвижению американской экономики с промышленного северо-востока к связанному с новыми электронно-космическими технологиями
"Солнечному поясу" на юго-западе. Этот процесс начался примерно в середине 60-х годов, но на него не обращали внимания до начала следующего десятилетия, когда появились две книги: "Мегатенденции" Джона Несбитта и "Третья волна" Олвина Тоффлера, которые интерпретировали этот процесс как рождение новой "информационной экономики", как начало "информационного века"
Эти футурологи представляли рождение информационной экономики как проявление особого поворота в "индустриальной судьбе Америки". Такая точка зрения вызывает категорический протест Т. Роззака. Внимание к высокоразвитой технике – это вовсе не результат "особой судьбы", пишет он в книге "Культ информации", – а результат "обдуманного выбора политического руководства страны, руководства корпораций, планомерной милитаризации нашей экономической жизни с начала Второй мировой войны", без этого едва ли так эффективно развивалась аэрокосмическая и электронная техника. Эти высокоразвитые отрасли промышленности в своих научных исследованиях были в значительной степени связаны с бюджетом Пентагона. То же самое можно сказать и о космической программе НАСА, и о развитии ядерной энергетики; известно также, что капиталовложения в самые важные проекты научных исследований в области компьютеров также были выделены из военного бюджета...
Поскольку национальные ресурсы вкладываются в высокоразвитую технику, то ее продукция должна быть продана. С одной стороны, такие товары, как ракеты, космические лаборатории, лазерное оружие, имеют ограниченный спрос. Компьютерная промышленность, с другой стороны, хотя и зависит от военных контрактов, тем не менее имеет выход на гражданский рынок. Последние поколения микро– и миникомпьютеров могут продаваться на уровне предметов ширпотреба, таких, как холодильники, автомашины, телевизоры. Таким образом, "информация приобрела статус товара в нашем обществе"
Другая проблема, которой Роззак уделяет серьезное внимание, – это соотношение человеческого мышления, интеллектуальной деятельности людей и тех процессов, которые происходят в компьютерах.
В современных компьютерах объединены два важных свойства: способность хранить огромное количество информации и способность организовывать ее в соответствии с логическими законами.
Но способность хранить информацию – это свойство человеческой памяти. Из этого делается вывод, что процессы, происходящие в компьютере – это то же самое, что мы называем мышлением. В этом нетрудно убедить общественность, так как то, что там происходит, нельзя увидеть: компьютеры работают так же тихо и незаметно, как и мозг человека. Только специалисты могут сказать, что именно происходит в полупроводниках, когда компьютер работает, поэтому они считают, что компьютер может служить моделью мозга, а мозг можно рассматривать как разновидность информационной машины, которая, правда, не всегда работает так же хорошо, как машина.
Американский профессор отмечает, что существует жизненно важная разница между тем, что происходит в компьютере, и тем, что происходит в мозгу человека. Из-за той таинственности, которая окружает компьютер, это различие начинает размываться. Поэтому сила разума, воображения человека, развивать которые призвана, в частности, школа, из-за этого смешения могут быть выхолощены, подорваны.
Если мы хотим возродить искусство мышления, пишет Роззак, оградить себя от этой путаницы, мы должны начать прокладывать свой путь к истине сквозь гипертрофированный обман рекламы, измышления средств массовой информации и коммерческой пропаганды. Но в итоге мы столкнемся со сложной философской проблемой, лежащей в основе рождения культа информации, который
в равной степени является результатом развития и науки, и рынка. Одаренные умы из сферы компьютерной науки поддерживают этот культ ради своей власти и выгоды. Реклама привлекла к своей деятельности много ученых, поэтому множество нелегких интеллектуальных и политических проблем предстоит решить, чтобы понять то влияние, которое компьютер оказывает на наше общество. Если культу информации подчинятся и те, в чьих руках находится образование молодого поколения, то это поколение в будущем может оказаться неспособным решать те социальные и этические проблемы, которые могут встать перед нашим обществом на последней стадии индустриальной революции.
В научной фантастике многие годы разрабатывалась идея о том, что машина может быть совершеннее человека, что "человекоподобные" машины могут превратиться в "господствующий вид жизни" на Земле. Но в начале 60-х годов появились ученые, которые стали относиться к человеку пренебрежительно, воспринимая научно-фантастическую метафору слишком буквально. Если компьютер – это мозг, если он обладает "интеллектом", то почему бы его не считать биологическим "видом"? А если "вид" в своем развитии имеет "поколения", то почему нельзя говорить об "эволюции" этого "вида"?
Конечно, отмечает Роззак, многие механизмы – холодильники, пылесосы – совершенствуются от модели к модели, но мы не говорим об этом как об эволюции. Компьютеры же от модели к модели не просто совершенствуются, они становятся более чувствительными, более "компетентными", более независимыми. Дж.Пфайфер, например, считает, что эволюция компьютеров – это существенная часть эволюции самого человека. Другие же высказывают убеждение, что "эволюцию компьютеров" не стоит даже сравнивать с "эволюцией несовершенного человеческого мозга". Эти рассуждения направлены на то, чтобы доказать, что сложность современного общественного развития требует господства компьютеров. А человек якобы постепенно должен выродиться в новый биологический вид – в "микрочеловека".
Роззак считает очень важным выявить те аргументы, которые приводят некоторых ученых к мысли об устарелости человека как вида. Если мышление – это просто информационный процесс, тогда, естественно, нет существенной разницы между тем, как мыслит человек и как – машина. И если обработка информации – это главная потребность века, то, конечно, у машины здесь больше преимуществ.
Но "информационную среду" человек создает себе сам. И в его власти должна быть способность заставить эту среду служить себе, "а не превращаться в жертву той культуры, которую мы сами создали"
Можно ли допустить мысль о том, что в образе компьютера мы создали сознание, которое больше соответствует интересам нашего общества, может лучше нас справиться с тревогами, отчуждением, моральными сомнениями нашего времени? Тогда мы должны будем сделать вывод – какой же негуманный социальный порядок
мы создали сами для себя...
Компьютеры все глубже проникают в нашу повседневную жизнь, они начинают формировать наше мышление, само наше представление о мышлении – с далеко идущими последствиями, потому что компьютер широким фронтом внедряется теперь на всех уровнях в систему образования и начинает формировать новые поколения учащихся.
Безусловно, компьютеры дают большие возможности для обучения молодого поколения. Но при этом нельзя забывать, что информация – это всего лишь факты, иногда полезные, иногда тривиальные, но они никогда не заменят мысль, и надо научить молодежь трезво оценивать роль и значение информации, не преувеличивая их.
Молодежи следует показывать, что компьютер обладает лишь небольшой частью наших способностей – "логическим рассудком". Чувства, интуиция, здравый смысл, эстетические вкусы – этого в машине нет, мы не все передали ей, не все возможности человеческой личности.
Ошибаются те, пишет американский философ, кто принимает компьютерную грамотность за высокую волну образованности будущего. Ошибаются те, кто забывает, что сознание "думает мыслями", а не информацией. Информация может иллюстрировать мысль, но она не создает ее. Культура выживает только благодаря силе, гибкости и плодотворности своих основополагающих идей.
Главная задача образования, утверждает Роззак, – научить молодые умы обращаться с идеями, мыслями, оценивать, развивать, применять их. Возможно, что для мышления информация вовсе не
нужна, во всяком случае ее избыток может даже погасить мысль, сбить с толку сознание (особенно молодое) бесформенной массой стерильных, не связанных между собой данных.
В связи с этим Роззак рассматривает проблему соотношения информации и идеи. Информация трансформируется в политическую проблему, если она осмыслена, освещена идеей справедливости, свободы, равенства, безопасности, долга, законности, нравственности. "Человечество унаследовало эти великие идеи из богатой традиции политической философии прошлого: от Платона и Аристотеля, Макиавелли и Гоббса, Джефферсона и Маркса. Данные, информация устаревают, а великие идеи живут, они составляют прочную этическую структуру нашей культуры, на них основаны наши законы, планы, политика..."
Жизнестойкость этих идей спасает демократию. Что же касается компьютеров, то их воздействие на демократические традиции и институты общества может оказаться весьма противоречивым. Еще в 1945 г. Н.Винер писал: "Я серьезно размышляю над возможностью отказаться от моих научных исследований, потому что я не знаю, как можно опубликовать их результаты и не допустить, чтобы мои изобретения попали не в те руки"106. Он имел в виду, что его детище могут использовать для военных целей, кроме того, оно может вызвать деквалификацию рабочего и стать причиной безработицы. Сам Н.Винер отказался сотрудничать с военными и призывал к этому своих коллег. Он полагал, что кибернетика может привести к "производству без производителя", к ослаблению рабочих профсоюзов, а это, по его мнению, будет
"путем к фашизму".
В 80-е годы, отмечает Роззак, оказалось, что опасность использования кибернетики военными стала реальностью, прежде всего в США. Информационная теория радикально изменила всю промышленную систему США. Автоматизация "рационализирует" всю экономику, заменит человеческие ресурсы машинными ресурсами, таким образом будет полностью дисциплинирована
"беспокойная рабочая сила". Следовательно, стремление военнопромышленного комплекса к рационализации, дисциплине, к полной дегуманизации производства совпадает с основополагающими принципами информационной технологии.
Футурологи имеют обыкновение идеализировать новое "информационное общество", считает Роззак. Такой подход, в частности, проявляется в работах Дж.Несбитта. Роззак оспаривает многие положения, высказанные Несбиттом в уже упомянутой нами выше книге "Мегатенденции". Например, если Несбитт считает компьютер почти богом в "информационном обществе", то Роззак подчеркивает, что компьютер – это всего лишь железный ящик с полупроводниками, что он управляет лишь иллюзиями, гипотезами. Если Несбитт называет "информационную эру" поворотом индустриальной "судьбы", то Роззак предлагает видеть здесь более прозаическое объединение интересов военных и государства, то есть опасное объединение корыстных интересов. "Легкомысленное прославление футурологами этого "великого перехода" к новому "информационному обществу", которое подхватывают консерваторы и либералы, заслоняет истинные силы и мотивы, лежащие в основе этого экономического процесса"
То, что называют "информационным обществом", пишет Роззак, может оказаться совсем не тем, чем его представляли нам его горячие поклонники, в их числе и Дж.Несбитт. Это не футурологическая Утопия, много раз описанная на страницах научной фантастики. Речь идет о важных и интересных процессах индустриальной истории. Никакая техника не развивала так быстро свой потенциал, как компьютеры и телекоммуникация. Можно понять, что те, кто осознал ураганный характер нынешних перемен, ошеломлены шквалом нововведений, огромным потоком новых технических возможностей. Однако в прошлом мы уже были свидетелями того, что многообещающая техника оказалась не в силах нам помочь, поэтому и сегодня нельзя допускать, чтобы нас снова ввели в заблуждение компьютерные фанаты. Информационная техника, безусловно, обладает огромным потенциалом, который могут использовать для еще большей концентрации власти, для создания новых форм манипулирования людьми и господства над ними. И чем меньше мы будем способны влиять на то, как и для чего эта новая техника будет применяться, тем больше мы будем страдать от негативных последствий применения этой техники.
Следует смотреть правде в глаза – компьютеризация способствует подрыву наших демократических ценностей, предупреждает философ. Усиливая господство элиты, новая информационная техника ставит под угрозу и нашу свободу, и само наше выживание.
Кроме того, уже в 70-е годы Роззак предупреждал восторженных поборников информационного общества о том, что уже начали появляться хакеры. Любой ребенок, играючи, может вывести из строя всю мировую информационную систему, а хакеры – это уже профессионалы по взлому компьютеров, всей гигантской компьютерной системы – это настоящие "нео-луддиты высоких технологий", как он их называет в переизданной в 1994 г. книге "Культ информации".
Бюрократический аппарат, корпоративная элита, военные будут пользоваться компьютерной техникой для того, чтобы затуманивать, мистифицировать сознание людей, запугивать их, управлять ими. Поскольку они полностью владеют источниками информации и техникой, "культ информации" помогает мистифицировать их могущество. Отсюда вытекает и их политическая цель: сконцентрировать еще больше власти и прибыли в руках тех, кто уже имеет и власть, и прибыль.
Еще в конце 60-х годов радикально настроенная молодежь, специалисты-энтузиасты компьютерного дела решили организовать группу для того, чтобы начать производство микрокомпьютеров – в пику компании ИБМ, производящей громоздкие, очень дорогие компьютеры для правительственных и оборонных нужд. Крупные компьютеры, которые молодежь называла в духе оруэлловской традиции "Большим братом", воплощали в себе авторитарную власть, иерархическое, централизованное управление. Возникшая тогда группа энтузиастов задалась целью создать совершенно иной образ компьютера, новую его политическую ориентацию, поскольку участники группы были убеждены, что та информационная техника, которая имелась у них в руках, могла стать
"инструментом демократической политики".
Этих молодых людей, разделявших контркультурные ценности, выступавших в свое время против войны во Вьетнаме, против скандала Уотергейта, увлекала идея превратить компьютер в своего рода противоядие против технократического элитизма. Они считали, что если компьютеры войдут в каждый дом, как вошли радио, телевизоры, магнитофоны, то можно будет сломать монополию корпораций и правительства на информацию, а значит – и на власть. В связи с этим они начинают разрабатывать стратегию на создание "электронного популизма", электронной демократии.
С этого момента микрокомпьютер стал для них воплощением радикализма: они стремились дать это "оружие" в руки народа, как символ демократии, и усилить демократию в стране.
Несмотря на все трудности, "ветеранам" контркультуры постепенно удается создать свои компании по производству микрокомпьютеров, которые в пику элитарному стилю крупных корпораций, производящих огромные, дорогостоящие машины, стали называть шутливо-вызывающе, например, компанией "жареных компьютеров" в Кентукки или компанией Эппл-компьютер ("Компьютер-яблочко") и т.д. В своей газете они писали, например: "Компьютеры используются главным образом против людей, а не для людей, для контроля над ними, а не для их освобождения. Пришло время изменить все это – нам нужна... народная компьютерная компания!"
По мысли этих энтузиастов, именно компьютеры должны были стать "технологией освобождения", проложить путь к "обетованной постиндустриальной эре". Они были убеждены, что именно личные компьютеры дадут миллионам людей прямой доступ к мировым банкам данных, к жизненно важной информации, которая сейчас находится в руках правительства, технократической элиты. В перспективе этим сторонникам индустриальной технологии виделся некий синтез общинной демократии и высокоразвитой технологии.
Однако Роззак показывает, как в течение одного десятилетия с середины 70-х до середины 80-х годов постепенно меркнет идеал "электронного популизма", рассеивается утопическое видение компьютеризованной сельской общины... В конечном счете, микрокомпьютерная "революция" закончилась ничем. Попытки создать "продолжение" контркультуры 60-70-х годов не увенчались успехом. Не удалось свергнуть и власть ИБМ: в острой борьбе против конкуренции Японии ИБМ объединяется с крупнейшими телефонно-телеграфными компаниями страны, так что мощь
"Большого брата" еще более крепнет...
Сегодня Роззак открыто упрекает своих единомышленников в том, что они своими действиями укрепляли иллюзии, так устраивавшие власть предержащих, он упрекает их в политическом идеализме, а мечты о возможности создания сельской общинной демократии на основе высших достижений научно-технического прогресса Роззак называет наивными. Благодаря их технофильству, по
его словам, в общественном сознании родилось множество ложных представлений, вредных иллюзий, например о возможности дать власть в руки народа с помощью компьютера, родилась неверная оценка сути самого процесса всеобщей компьютеризации.
Значительный интерес представляет заключительная глава книги Роззака – "Ангел Декарта". В ней американский философ предстает с несколько необычной стороны. Роззак, известный как представитель иррационалистической традиции, ярый ниспровергатель культа разума, здесь выступает как страстный защитник... разума перед лицом всеобщей компьютеризации. "Интеллект, – пишет он, – это дар нашей человеческой природы, мы можем пользоваться им, радоваться ему, развивать и совершенствовать его, но мы при этом не можем до конца объяснить его"109. Декарт, испытавший небывалое озарение после визита ангела во сне, вдруг делает открытие: исходя из логического характера математического знания, он приходит к выводу о формально-логических приемах мышления, сама процедура мышления становится для него ясной. Однако Роззак критикует Декарта за то, что, обратив внимание на логику процесса мышления, он никогда не задумывался над тем, что же служит источником самих мыслей, над тем, "из какой двери" к нему пришел ангел его прозрения. С точки зрения Декарта, мышление начинается с нуля, с положения радикального сомнения, но он упустил, по мнению Роззака, такое важное свойство ума, как таинство рождения мыслей, идей. И это Роззак называет "роковым упущением отца современной философии". Сам же Роззак убежден, что источником мыслей, идей скорее всего служит подсознательное, сны, озарения. Мы можем и не знать того, как именно разум создает идеи либо получает их извне, но без идей, мыслей, особенно без великих идей, вобравших в себя огромный потенциал коллективного опыта человечества, "наша культура была бы просто нежизнеспособной"
На основании того, что источник идей и сегодня, в начале третьего тысячелетия, остается необъяснимым, нельзя делать вывод, будто можно игнорировать важность самих идей, либо делать вид, будто нам уже ясны те вопросы эпистемологии, над которыми веками бились философы, пишет Роззак. Однако специалисты в области компьютерной техники и искусственного интеллекта стремятся убедить всех, будто суть процесса познания для них уже очевидна.
При всей остроте своей критики компьютеризации общества Роззак понимает, что сама машина – компьютер – это
"поразительное проявление силы человеческого воображения и изобретательности" Но в руках технократической элиты, военно-промышленного комплекса он превращается в орудие усиления контроля, централизованной власти, в орудие манипуляции общественным сознанием, деформации человеческой личности.
Роззак признает, что, выступая за ограничение компьютеризации образования, он критикует этот процесс с консервативных позиций защиты приоритета искусства и литературы в процессе обучения молодого поколения. Он неоднократно подчеркивает, насколько важно в раннем возрасте приобщать детей к образам Гомера, идеям Сократа, идеалам, несущим в себе важные культурные ценности человеческой цивилизации, внушать молодым идеи добра, любви, благородства, знакомить их со сказками, поэмами, мифами, легендами, чтобы дети могли, играя, идентифицировать себя с богами и богинями, с благородными, сильными героями. С компьютерами же, по его мнению, можно знакомиться и позже, в старших классах, в вузах.
Чтобы человек умел мыслить, создавать идеи, важно, чтобы на плодотворную почву наивного детского восприятия попал образ, а не информация, не данные. Искусство мыслить – ценнейшая способность человека, и Роззак страстно стремится защищать эту способность от подмены ее "компьютерным фольклором".
Компьютер оперирует данными, человек же мыслит идеями. Компьютеризация способствует подрыву наших демократических ценностей, предупреждает американский философ: "Усиливая господство элиты, новая информационная техника ставит под угрозу и нашу свободу, и само наше выживание"
Очевидно, взгляды Т. Роззака, изложенные им в книге "Культ информации", отражают дальнейшее развитие антисайентистской и антитехницистской традиции, характерной для леворадикального сознания.
Однако, как представляется, недостаточно просто констатировать это обстоятельство. Роззак практически подводит черту под попытками левых радикалов бороться с технократическим, сайентистским видением мира посредством действий и идей, являющихся, в сущности, материализацией того же типа мышления, которое связывает с "микроэлектронной революцией" надежды на разрешение социальных и экономических противоречий современного мира. Ценности контркультуры и идеал информационного общества в принципе несовместимы – таков лейтмотив книги Роззака "Культ информации".
Вместе с тем реалии современного компьютеризированного мира наложили определенный отпечаток и на взгляды Роззака. Анализ его работ, начиная с первой книги "Создание контркультуры" и до последних его книг, позволяет проследить диалектику развития его философии. Многие идеи, которые он отстаивал в предыдущих работах, например трансцендентный иррационализм ("Личность/Планета"), постепенно уже не кажутся ему адекватным ответом на вызов современной эпохи.
Работа "Культ информации" отразила эволюцию взглядов ученого в последние десятилетия и, до известной степени, эволюцию леворадикального сознания в целом.
Видение Роззаком техногенной цивилизации близко концепции "репрессивного общества" Г.Маркузе. Но в отличие от последнего Роззак исследует глубинные философские основания репрессивного общества. В частности, прослеживаются рационалистические истоки западной цивилизации. "Знание– сила" – сила, власть над природой – идея Бэкона, идеи Галилея, Ньютона, Декарта – все это, по Роззаку, проявление технократического отношения к миру как к объекту, лишенному какоголибо самоценного значения. Роззак прослеживает воспроизводство этого субъект-объектного отношения во всех областях жизнедеятельности: в экономике, политике, в повседневных человеческих взаимоотношениях. Превращение мира в объект использования, возделывания как специфическая мотивация западного человека является первопричиной кризиса техногенной цивилизации.
Этот весьма скромный блок рекламной информации даст вам возможность узнать о других необычных книгах и не только о книгах: древовидная лилия . катание на снегоходах в подмосковье . Прочитайте на http://www.printbusiness.su/ . грунтовые катки Тюмень эти и другие многи наши спонсоры дают многим инициативам в сети возможность существовать и развиваться Из найденной здесь информации вы - вполне вероятно - почерпнёте для себя нето полезное и интересное дополнительно, несмотря на ее рекламный характер Реклама - двигатель торговли! И источник полезной информации - за примерами далеко ходить не надо